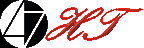Комментарий теории:#5  Григорич » 09 мар 2015, 11:33
Григорич » 09 мар 2015, 11:33
Aleksandr, спасибо за толковые вопросы! Они помогают мне шире развернуть обсуждаемую тему. Выброс вещества из недр сверхмассивного галактического ядра порой действительно настолько велик, что часть выбрасываемого вещества вылетает даже за пределы «материнской» галактики и приобретает самостоятельное галактическое значение. Примерами таких «новорожденных» галактик являются, как правило, неправильные галактики, в числе которых нам наиболее близки Большое и Малое Магеллановы облака. Они не сталкиваются и не разлетаются с галактикой Млечной Путь, а являются ее спутниками.
Таково вот мое мнение по поводу заданных вами вопросов. А теперь продолжу знакомство с происхождением очередного весьма живописного астрономического объекта нашего мироздания.
Итак, началом тяжелоэлементной фазы эволюции Вселенной явился первый грандиозный взрыв сверхмассивного ядра одной из многочисленных эллиптических галактик, в результате которого насильственно сконструированные гравитацией тяжелые элементы вещества вырвались из-под гравитационного гнета в галактические просторы. Вслед за этим подобные взрывы стали происходить и в других эллиптических галактиках, в том числе порядка 5 миллиардов лет назад в нашей «родной» Галактике, бывшей до этого тоже эллиптической. И всякий раз во время такого взрыва в космических просторах Вселенной ярким пламенем вспыхивал новый астрономический объект, получивший в науке наименование КВАЗАР.
По современным научным представлениям, квазар – это мощное ядро галактики, обладающее чрезвычайно малыми угловыми размерами. Однако, несмотря на свою компактность, по мощности излучения квазары иногда в десятки и сотни раз превышают суммарную мощность всех звезд таких галактик, как наша. Единственное, что пока остается для науки загадкой, так это источник столь колоссальной мощности излучения квазаров.
Предлагаемая мною концепция постепенного накопления в недрах сверхмассивного галактического ядра энергии радиоактивного распада снимает эту проблему: источником взрыва квазаров является не что иное как радиоактивная энергия новорожденного в недрах галактического ядра тяжелого вещества. При этом, поскольку весьма массивное и весьма компактное ядро по обыкновению обладает стремительнейшим вращением, а сверхплотное и сверхтемпературное вещество ядра находится в плазменном состоянии, то вся эта перенасыщенная различными видами энергии конструкция обладает в том числе и мощнейшим магнитным полем. Под воздействием этого поля выбрасываемая радиоактивной энергией из недр ядра плазма, в составе которой в изобилии содержатся ионы всевозможных химических элементов и свободные электроны, приобретает высокоскоростное движение в двух противоположных направлениях.
Так начинается судьбоносное перерождение той или иной эллиптической галактики в спиральную!
Добавлено спустя 3 дня 12 минут 39 секунд:
Перевоплощение эллиптических галактик в спиральные – вовсе не одноактный, а достаточно длительный эволюционный процесс, сопровождающийся стремительным разлетом вещества в двух противоположных направлениях и последовательной сменой космических декораций.
Как уже отмечалось в моем предыдущем сообщении, квазар – это взорвавшееся ядро эллиптической галактики, из недр которого накопившейся там радиоактивной энергией было выброшено «свежеиспеченное» сложноэлементное вещество. При этом, поскольку вещество это находилось преимущественно в ионизованном плазменном состоянии, то сопутствующее быстровращающемуся ядру мощное магнитное поле направляет выброс обновленной материи в двух противоположных направлениях. Наряду с ионами химических элементов в составе выброшенного вещества в огромных количествах присутствуют свободные электроны, которые под воздействием магнитного поля ядра-квазара разгоняются до скоростей, близких к скорости света. В результате в обоих направлениях выброса возникает так называемое синхротронное излучение, характеризующееся сильной поляризацией. Энергия взрыва и мощность магнитного поля столь велики, что излучение в виде двух достаточно узких полос простирается от взорвавшегося ядра на целые миллионы световых лет. Данная стадия в эволюции галактик получила название РАДИОГАЛАКТИКА.
Тем временем основная масса выброшенного вещества в виде газа и пыли под влиянием вращательного момента ядра начинает закручиваться в спирали. Оптическая активность ядра, пройдя первоначальную стадию ослепительного квазара, постепенно падает. То же самое происходит с активностью синхротронных радиоизлучений – она последовательно снижается, а в отдельных местах радиополос даже появляются «немые» разрывы. Такая картина соответствует той эволюционной стадии галактик, которая в астрономии получила название СЕЙФЕРТ 2. Однако вскоре оптическая активность перерождающейся галактики снова начинает расти. Но теперь эта активность перемещается из центра галактики в ее спиральные ветви (или, как их еще образно называют, в спиральные рукава), где на основе образовавшихся сгущений газа и пыли начинают загораться яркие молодые звезды. Радиополосы к этому времени превращаются в слабоизлучающие «лохмотья». В этот период галактика находится в так называемой стадии СЕЙФЕРТ 1. В конце концов спиральные ветви набирают полную оптическую силу, а синхротронное излучение совсем иссякает. Вот тут-то и наступает долговременная стадия СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК, в которой к настоящему времени уже находится большинство (около 70 процентов) всех существующих в современной Вселенной звездных систем, включая наш Млечный Путь. Остальным, продолжающим оставаться пока эллиптическими, галактикам в скором, по космическим меркам, времени предстоит пройти весь вышеописанный путь перерождения в спиральные.
Кстати, те галактики, в которых уже обнаружены квазары, как раз находятся в начале этого пути. Тем самым галактические миры последовательно перевоплощаются в совершенно новые по своей эволюционной сути звездные системы, несущие в чревах составляющих их тяжелоэлементных звезд (звезд 2-го поколения) созидательнейшую из всех возможных животворящую силу – РАДИОАКТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ!
Добавлено спустя 5 дней 23 часа 38 минут 43 секунды:
Как нетрудно догадаться из содержаний моих предыдущих сообщений, вслед за тяжелоэлементной стадией эволюции Вселенной наступает РАДИОАКТИВНАЯ. Если до этой поры, для того чтобы глубже постичь суть происходящих во Вселенной событий и явлений, нам было удобнее рассматривать их во всем необъятном пространстве нашего мироздания, то для рассмотрения процессов, происходящих на радиоактивной стадии, достаточно, пожалуй, ограничиться пространством нашей Галактики. Ведь речь, как-никак, пойдет о таких же звездах, как наше Солнце, о таких же планетах, как наща Земля, о таких же спутницах планет, как наша Луна…
Итак, с образованием в составе звездного населения галактик тяжелоэлементных звезд 2-го поколения у Природы нашей вселенной появилась новая творческая возможность: строительство планетных систем. Однако, каким образом осуществляется это строительство, вот вопрос? У современной космогонии однозначного убедительного ответа на этот вопрос нет.
Как известно, все разработанные на сегодня космогонические гипотезы неизбежно наталкиваются на противоречия с существующими в природе законами. Ни одна из них не способна уверенно объяснить строение нашего Солнечного уголка Вселенной. Обязательно обнаруживается хотя бы один изъян, вынуждающий научный мир отказаться от полного признания очередной, нередко весьма оригинальной идеи. Так, сторонники классического, лапласовского, направления, предполагающего образование Солнечной системы в результате сжатия протосолнечной туманности и отслоения от нее газопылевых колец, из которых сформировались планеты, никак не могут преодолеть проблему парадоксального распределения количества движения между Солнцем и планетами: Солнце, обладая массой в тысячу раз большей суммарной массы всех планет, вращается столь медленно, что на его вращение приходится только 2% полного количества движения Солнечной системы. Несоответствие принципам механики сжимающегося тела здесь настолько очевидно, что лапласовскую модель не удается спасти никакими, даже самыми грубыми, допущениями.
Все попытки так называемых «катастрофистов» (Бюффон, Аррениус, Чемберлин, Мультон, Джеймс Джинс) выйти из этого положения с помощью выбросов планетных масс вещества из Солнца (чем легко устранялось бы только что подмеченное несоответствие) встречали на своем пути непреодолимые трудности в виде отсутствия достаточного мощного источника энергии для выброса, способного обеспечить вывод на космические орбиты столь массивных спутников. Вторая космическая скорость, необходимая для выброса таких объемов материи, была чрезмерно велика. Разнообразные «насильственные» теории, пытавшиеся объяснить эти гигантские выбросы прохождением вблизи Солнца соседней звезды, либо его столкновением с огромной кометой или астероидом, вызывали у специалистов еще большие возражения. Мало того, что все подобные события при существующей плотности звезд в нашей окрестности и мелкости комет и астероидов в сравнении с Солнцем (что слону дробина) маловероятны, но даже если бы такое событие и произошло, то выброшенный из Солнца высокотемпературный газ в силу законов газодинамики сгуститься в планеты не смог бы. Он непременно рассеялся бы по всему окружающему пространству.
Большое недоумение у ученых-космогонистов вызывает также существенное различие элементного состава Солнца и планет. Особенно это бросается в глаза на примере планет земной группы, состоящих в основном из тяжелых химических элементов, которые в Солнце (в пропорциональном отношении) представлены лишь в незначительном количестве. Тут возникает закономерный вопрос: чем объяснить эти вопиющие диспропорции?
Не находят пока логического объяснения и отличия внутренних планет земной группы от внешних планет-гигантов. Мало того, что внешние планеты наделены гигантизмом (Юпитер, например, обладает радиусом, в 12 раз большим, чем Земля, ну а по весу вообще в 300 раз тяжелее), но к тому же у этих великанов основу их массы составляют не тяжелые элементы, как у земных, а газы. В то же время необъяснимой является и противоречивая разноэлементность состава самих планет-гигантов: в более удаленных планетах – Уране и Нептуне – тяжелая составляющая заметно ощутимей, чем в Юпитере и Сатурне, тогда как по логике газопылевой конденсации с учетом господствующей в мире гравитации все, скорее, должно было быть совсем наоборот.
В общем, с какой стороны ни смотри, процветающая сегодня в научном мире классическая теория образования планет по-лапласовски в рамки действительных характеристик объектов Солнечной системы влезать никак не хочет. Совсем другая картина получается, если мы применим к строению Солнечного дома радиоактивный ключ. Но об этом в следующем сообщении.
Добавлено спустя 8 дней 23 часа 14 минут 58 секунд:
Во всей этой проблеме происхождения Солнечной (и ей подобных) системы больше всего меня удивляет отсутствие элементарной физической логики в рассуждениях ученых. Что мы имеем в качестве исходного «строительного материала» нашего Солнечного дома? Выброшенное из недр сверхмассивного галактического ядра протосолнечное облако, представлявшее собой разреженную газопылевую туманность, в составе которой находились частицы практически всех существующих в природе элементов вещества Периодической системы Менделеева: и легчайшие, и легкие, и тяжелые.
Кто был тем «трудолюбивым чернорабочим», который денно и нощно лепил из этого разнообразного месива стройную космическую конструкцию? Да все тот же эфир с врожденной в него гравитационной энергией, который изрядно поднаторел в этом деле еще при строительстве многочисленного звездного населения 1-го поколения. Правда, тогда «стройматериал» был намного однообразней. Протозвездные облака состояли всего лишь из атомов легчайших элементов. Но какая, собственно говоря, разница?! Так даже намного интересней! Теперь в руках опытного работяги оказались химические элементы всех возможных масс и достоинств. Из такого материала можно построить намного более живописные звездные поселения! И неугомонная гравитация вновь принялась собирать разбросанное вещество в цельные конструкции.
Следующее наше логическое заключение состоит в том, что на сей раз в центр протосолнечной газопылевой туманности в первую очередь заталкиваются наиболее тяжелые элементы. Далее туда последуют менее тяжелые, затем еще менее тяжелые, потом легкие, за ними еще более легкие, и наконец – легчайшие, включая гелий и водород. Конечно, очередность будет в какой-то мере нарушаться, некоторые будут лезть без очереди, но в целом картина будет именно такая. Главное, что в основной своей массе первыми в ядро Протосолнечной туманности заталкивались тяжелые твердоэлементные вещества, а последними – легкие газы.
Теперь посмотрим, какой астрономический объект у нас в данном случае получится. В центре туманности будет формироваться стремительно вращающееся, достаточно массивное, твердоэлементное тело, окруженное продолжающей сжиматься, но еще весьма протяженной газопылевой атмосферой. Не будет большим грехом назвать этот необычный в системе звездообразования объект Солнцем-планетой. При этом учтем, что в его недрах наряду с другими тяжелыми элементами значительное место занимают радиоактивные частицы, неустанно производящие тепло и тем самым расплавляющие твердоэлементные породы, превращая их в магму. Учтем также, что происходило это 5 млрд. лет назад, когда выброшенные из ядра галактики радиоактивные вещества были намного более свежими и энергичными, чем сейчас.
В общем, к чему это привело, становится совершенно ясно. В экваториальной области Солнца-планеты под воздействием прорывающейся наружу магмы образовывались огромные жерла вулканов, из которых «выстреливались» магматические зародыши будущих планет и их спутников. Подхваченные стремительным вращением Солнца-планеты, они забрасывались в еще не успевшую войти в состав будущего Солнца-звезды газопылевую атмосферу, где пополняли свою массу пылевыми и газовыми частицами. Так зародыши постепенно росли и становились полновесными, полноценными планетами и их спутниками.
По мере последовательного выброса зародышей из своих недр и забрасывания их на околосолнечные орбиты Солнце-планета теряло свой вращательный момент, чем и объясняется отмеченная в моем предыдущем сообщении проблема парадоксального распределения количества движения между Солнцем и планетами. Логичное объяснение находят и все остальные до сих пор кажущиеся загадочными и вызывающие у ученых многочисленные споры и возражения особенности строения Солнечной системы.
Так, одной из основных особенностей эволюции Солнечного дома являлось то, что первоначально она протекала в объеме продолжающего сжиматься газопылевого облака, благодаря чему выброшенные Солнцем-планетой на дальние орбиты сгустки тяжелого вещества имели возможность не только пополнять запасы такого вещества, но и обрастать достаточно плотным газовым покрывалом, чем и воспользовались внешние планеты-гиганты. Причем на обочине туманности газ был наиболее разрежен, поэтому внешним гигантам достались более тонкие «газовые шубы». Юпитер же столь плотно укутался таковой, что лишь немного не дотянул до массы звезды. Выброшенные же в более поздние сроки и на более короткое плечо от Солнца планеты земной группы были лишены возможности приобретения таких солидных газовых шуб, так как, с одной стороны, коллапс туманности к этому времени значительно ускорился, а с другой – сказывалась непосредственная близость на полную мощь заработавшего Ярила, которое своим гравитационным и лучевым воздействием дополнительно препятствовало образованию обильных газовых оболочек.
Радиоактивный механизм происхождения Солнечной системы значительно облегчает условия выброса планет также и с точки зрения 2-й космической скорости. Во-первых, необходимо иметь в виду, что выбрасывались из протосолнца значительно меньшие массы вещества, чем те, которыми располагают планеты сейчас. Их рост до современных показателей происходил в ходе последующего гравитационного отбора вещества (как газа, так и пыли) из еще несколлапсировавшей туманности. Во-вторых, масса Солнца-планеты в тот период, когда из ее недр выбрасывались протопланетные сгустки вещества, была во много раз меньше, чем масса Солнца-звезды, в состав которой вошло почти все вещество протосолнечной туманности. В-третьих, выброс протопланетных масс производился не за пределы Солнца, а как бы внутри него, в его весьма протяженную в тот период атмосферу, за счет чего потребности в энергии такого выброса были также многократно снижены. Ну и, наконец, в-последних, выброс обеспечивался не только накапливавшейся в недрах Солнца-планеты радиоактивной энергией, но и энергией стремительного вращения Солнца. По этой причине протопланетные зародыши забрасывались на свои орбиты как из пращи. Так что никаких катастроф для рождения планетных миров совсем не требуется. Планеты рождаются вполне естественным и доступным для понимания путем.
Добавлено спустя 12 дней 3 часа 48 минут 58 секунд:
Прежде чем перейти к следующим «чудесам», сотворенным радиоактивной энергией, хотелось бы ознакомиться с оставленными ею на нашей планете следами своей неутомимой деятельности. Это позволит нам опираться не только на логику происходивших на Земле событий, но и на конкретные исторические факты.
РАДИОАКТИВНАЯ ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛИ. Интерес человека к возрастным характеристикам нашей планеты имеет давнюю историю. Жрецы древнего Вавилона, основываясь на положении и движении звезд, «высчитали», что Земля существует около двух миллионов лет. Некоторые религиозные теоретики, опираясь на им одним известные методы вычислений, были более категоричны и «точны» в своих оценках. Изучив текст Библии, архиепископ Иероним, например, пришел к заключению, что мир был сотворен за 3941 год до начала современного летоисчисления. Его коллега Феофил, епископ антиохский, увеличил этот срок до 5515 лет. Августин Блаженный прибавил к нему еще 36 лет, а ирландский архиепископ Джеймс Уссер, явно неравнодушный к совершенно точным цифрам, «рассчитал» в 1654 году, что мир был создан триединым богом за 4004 года до рождения Христа 26 октября в 9 часов утра. Но не будем грешить только на святых отцов. Даже великий Ньютон объявил, что согласно его расчетам земной шар должен был появиться на свет 6030 лет назад.
Шутки шутками, а ученый люд был серьезно озабочен этой возрастной проблемой, решение которой имело не только мировоззренческий, но и глубокий практический смысл. Для обоснования научных концепций о появлении жизни, о продолжительности геологических процессов, для поиска месторождений полезных ископаемых нужны были точные представления о геологическом времени, и пытливый исследовательский ум настойчиво подбирал ключи к разгадке этих сокровенных тайн природы.
Поначалу исследователи обратили внимание на то, что в напластованиях горных пород заключены останки самых разных ископаемых животных и растений. Причем чем глубже залегает слой, тем примитивнее в нем организмы. Эта последовательность в напластованиях пород позволила выявить, что каменная летопись Земли как бы разделена на две части: молодую (фанерозой), в которой присутствуют остатки и следы всех известных на сегодня представителей флоры и фауны, и более древнюю (криптозой – этап скрытой жизни), где обнаружены микроорганизмы - одноклеточные водоросли, вирусы и бактерии, жившие задолго до того времени как появились многоклеточные формы. В свою очередь, эти эпохи делятся на геологические эры, для каждой из которых характерен свой уровень развития живого.
Это уже было кое-что, но все же выявленная геохронологическая шкала не давала науке ответа на главный вопрос: когда появилась Земля и какова длительность того или иного периода ее жизни? Вот тут-то на помощь ученым и подоспела радиоактивность, позволившая расставить происходившие на Земле события по более-менее точным временным полкам. После того как в конце 19-го – начале 20-го веков радиоактивность была обнаружена Беккерелем и «пущена в дело», временные характеристики земной летописи начали обретать реальные черты. Дело в том, что обладая замечательнейшим свойством скорости полураспада, радиоактивные элементы оказались незаменимым часовым механизмом, с достаточно высокой точностью указывающим возрастные характеристики геологических событий. На основании радиоактивного распада урана, содержащегося в минералах и горных породах, и превращения его в свинец были составлены шкалы абсолютного летоисчисления Земли. Первые же результаты буквально ошеломили мир. Оказалось, что возраст отдельных земных пород исчисляется не тысячами, не миллионами, а миллиардами лет. Эти данные как раз и позволили определить общий возраст Земли – немногим более 4,6 млрд. лет. Постепенно, шаг за шагом, разгадке поддавались не только геологические вехи земной истории, но и основные рубежи ее палеонтологической летописи, дававшие представление о появлении тех или иных форм живого мира.
Радиоактивный метод определения возрастов оказался настолько эффективным, что позволил определить отдельные моменты не только нашей планеты, но и внеземных объектов Солнечной системы. Исследовав продолжительность жизни метеоритов, являющихся осколками астероидов, ученые определили, что возраст последних составляет тоже порядка 4,6 млрд. лет. Более того, по изотропным аномалиям в метеоритах удалось установить, что их вещество испытало на себе два крупнейших впрыскивания в околосолнечное пространство нового вещества. Произошло это перед окончательным коллапсом протосолнечной туманности с интервалом в 100 миллионов лет, причем второе впрыскивание случилось всего за миллион лет до появления астероидов. Классическое направление в космогонии, предполагающее образование Солнечной системы в результате сжатия протосолнечной туманности и отслоения от нее газопылевых колец, из которых якобы сформировались планеты, не дает объяснения этого факта. Другое дело, когда планеты появлялись на свет в результате вулканического выброса из недр Солнца-планеты (см. мое предыдущее сообщение). Здесь для нас особенно интересно то, что рождению Земли со своим спутником Луной предшествовало рождение планеты Фаэтон… Но об этом хотелось бы поговорить отдельно в следующем сообщении.
Добавлено спустя 14 дней 21 час 33 минуты 34 секунды:
ПЛАНЕТА ФАЭТОН. Среди астрономических объектов, которые, несомненно, заслуживают пристального внимания, но существование которых вызывает в науке большие сомнения, особое место для нас, землян – представителей Солнечной системы, занимает планета Фаэтон. В настоящее время среди спутников Солнца такой планеты нет, однако предположение о ее существовании возникло еще в конце 18-го века. В соответствии с эмпирическим правилом Тициуса-Боде между Марсом и Юпитером обязательно должна находиться еще одна планета, которую никак не удавалось обнаружить. Поэтому на научном конгрессе в Готе (Германия) в 1796 году было решено начать ее поиск. Долгое время охотникам никак не удавалось изловить предполагаемую добычу. Но вот в первую же новогоднюю ночь 19 века директор сицилийской обсерватории Джузеппе Пиацци, занимаясь совсем другими проблемами, совершенно неожиданно для себя заметил медленно перемещающийся по небу звездоподобный объект. Вычислив параметры его орбиты, астрономы торжествовали: недостающая планета найдена! Ее назвали Церерой в честь богини-покровительницы Сицилии.
Казалось бы, статус-кво восстановлен, брешь в солнечном здании заделана. Но уже в следующем, 1802 году, на том же расстоянии от Солнца была открыта еще одна планета – Паллада, в 1804 году – Юнона, в 1807 – Веста. И пошло-поехало. К 1860 году были известны уже 62 малые планеты (их еще называли астероидами, то есть звездоподобными), к 1890 году это число превышало 300, а к настоящему времени оно приблизилось к 3000. Общее количество астероидов, к которым отнесены все тела малых планет размерами не меньше одного километра, оценивается величиной свыше 70 тысяч единиц. Количество же тел меньших размеров – метеоритов – вообще трудно назвать даже приблизительно, так как число этих объектов растет обратно пропорционально кубу их поперечных размеров. Правда, если собрать все эти объекты вместе, то их суммарный объем должен составить шар диаметром всего лишь около 1500 км. Чтобы слепить такой шар из земного материала, потребовалось бы с поверхности Земли снять слой всего лишь километровой толщины.
Естественно напрашивается вопрос, откуда взялись все эти многочисленные разнокалиберные объекты практически на одной и той же орбите? Немецкий ученый Ольберс, сам открывший Палладу и Весту, не стал ожидать, когда число малых планет станет измеряться десятками и сотнями. Ему хватило и первых трех астероидов, чтобы в 1804 году высказать гипотезу об их происхождении в результате разрыва на куски одной большой планеты, названной Фаэтоном. В свою очередь, в этом случае напрашивается другой вопрос: чем же можно объяснить взрыв Фаэтона? И наиболее логичной причиной этого опять же является радиоактивная энергия. В принципе, содержащиеся в выброшенных из планеты-Солнца сгустках материи радиоактивные элементы несли в себе угрозу взрыва каждой из планет Солнечной системы. Оседая, как самые тяжелые, в центральных областях планеты, эти элементы, распадаясь, неизбежно ведут свою «подрывную» деятельность. Исход этой деятельности во многом зависит не только от внутренних, но и от внешних условий. Именно для Фаэтона эти условия оказались таковыми, что он взорвался, в то время как все остальные планеты остались в целости и сохранности. Почему?
Действительно, почему же так получилось, что Фаэтон разорвало на куски, а Земля, к примеру, оказалась целой и невредимой? Для этого необходимо учитывать, что согласно радиоактивной модели происхождения Солнечной системы зародыш Фаэтона (Протофаэтон) был выброшен на орбиту раньше Праземли, а потому насыщающие его актиноиды энергетически были более активными. Гораздо большая удаленность Фаэтона от Солнца, которое к тому же еще не набрало свою полную излучающую мощь, способствовало быстрому остыванию и затвердеванию внешних слоев планеты. В результате образовалась своеобразная термоядерная бомба, взрыв которой оказался неизбежным. Таким образом, более позднее рождение Земли и других планет земной группы весьма благоприятно сказалось на их дальнейшем существовании.
Ну а как же в таком случае объяснить целостность следующего по своей удаленности от Солнца за Фаэтоном Юпитера? Здесь стабилизирующую роль сыграло быстрое «налипание» на выброшенный тяжелоэлементный зародыш планеты огромных масс газа, которого в составе сжимающейся протосолнечной туманности было более чем достаточно. В результате давление в центре Юпитера за короткий срок выросло до десятков миллионов атмосфер, а температура недр до десятков тысяч градусов. Так что тяжелоэлементное ядро гиганта оказалось в жидкометаллической фазе, что способствовало достаточно свободному выходу радиоактивного тепла наружу. Кстати, как показывают современные измерения, выход тепла из юпитеровых недр еще и сейчас превышает приток энергии от Солнца. Аналогичная картина наблюдается и для Сатурна. Более того, мощная энергетическая активность недр отдельных планет-гигантов время от времени проявляется и более существенно путем периодического выброса кометных тел.
Добавлено спустя 19 дней 4 часа 10 минут 22 секунды:
Наличие в Солнечной системе весьма протяженного астероидного пояса у ряда астрономов, в том числе и любителей, вызывает острые дискуссии. Одни стоят горой за то, что все эти «малые звезды» – останки от взрыва планеты Фаэтон, а другие утверждают совершенно обратное: это, мол, так и не сумевшие объединиться в планету планетезимали, образовавшиеся в результате отслоения газопылевых колец от протосолнечной туманности (в полном соответствии с теорией происхождения Солнечной системы по Лапласу).
При этом поначалу никакого раздвоения мнений по поводу происхождения астероидов в научной среде не было. Высказанная Ольберсом идея о взрыве Фаэтона как о причине образования в Солнечной системе такого «чуда», каковым является астероидный пояс (смотри мое предыдущее сообщение), выглядела достаточно убедительно. Поэтому более 150 лет после ее появления эта гипотеза имела в научном мире многих сторонников. О чем тут говорить и спорить, все и так ясно, как божий день! Ну, конечно же взорвалась планета, какие тут могут быть сомнения?!
Ан нет. В середине прошлого века, когда гипотеза об отслоении газопылевых колец от протосолнечной туманности и образования из них сначала планетезималей, а потом и полновесных планет возобладала над остальными, от гипотезы Ольберса дружно отказались. При этом причиной отказа послужила якобы малая масса не только ныне существующих, но и уже завершивших свое существование астероидов. В свою очередь, в качестве научного обоснования такого вывода приводится ссылка на сравнительно низкую израненность поверхностей планет земной группы и их спутников от ударов метеоритов. Если бы, мол, действительно взорвалась планета, то шрамов от бомбардировки ее осколками других планет должно быть гораздо больше.
Вроде бы какая-никакая логика здесь тоже присутствует. Однако при этом совсем не учитывается, что в начальный период после взрыва Фаэтона, когда интенсивность бомбардировок осколками была наиболее высокой, поверхности планет земной группы, насыщенных еще не растратившими свою энергию актиноидами, представляли собой кипящий котел, попадая в который падавшие астероиды и метеориты переплавлялись и перемешивались с магмой самих планет. Это во-первых. А во-вторых, главной притягивающей силой для осколков всенаправленно взорвавшегося Фаэтона были, конечно же, не планеты земной группы, а наше центральное светило и планеты-гиганты (и в первую очередь ближайшая из них – Юпитер), которые никаких следов на своей поверхности вообще не оставляют. Тем не менее, от гипотезы Ольберса напрочь отказались, а ошибочная теория Лапласа и его последователей продолжает торжествовать.
Вот так в современной науке, которая преимущественно строится не из физических фактов, а из математических моделей, появился очередной парадокс превращения очевидного в невероятное. И таких парадоксов накопилось уже великое множество. Придуманная Эйнштейном теория относительности вызвала у многих его современников подлинное «смятение умов». Обыкновенные явления земной жизни никак не укладывались в ее парадоксальные формы. Скорость света в пустоте (хотя на самом деле пространство Вселенной полностью материально и никакой пустоты в пределах ее границ не существует) оказалась неизменной при любых обстоятельствах: фотонам что догонять, что лететь навстречу – абсолютно безразлично, скорость их встречи с объектом от этого ничуть не изменится. Никакого Абсолютного мирового пространства нет! Время, как и пространство, является относительным, оно замедляет свой ход для быстродвижущихся объектов, течет по-разному для объектов, живущих в различных скоростных системах (парадокс близнецов). Время также сокращает свою поступь в мощных гравитационных полях. Пространственные масштабы под влиянием околосветовых скоростей изменяются, что сказывается в уменьшении реальных размеров материальных объектов (лоренцово сокращение длин и расстояний). Гравитация, эта фундаментальнейшая из всех прочих видов физическая энергия, стала второстепенным понятием, легко заменяемым геометрией векторов энергетического взаимодействия объектов, ускоренно движущихся друг относительно друга…
В общем, парадоксов наплодили столько, что все их сразу и не перечислишь. А главное, что все эти парадоксы прочно укоренились в научном мышлении, в результате чего наука перестала довольствоваться очевидными фактами, подавай ей невероятное. Здравая логика, как сказал бы в данном случае Гегель, «опустилась на дно», а ее место заняла необузданная околонаучная фантастика, порождающая все новые несуществующие материальные миры (инфляционные, струнные, бранные, циклические, искусственные и т.д. и т.п.) и соответствующие их небытию законы существования.
Добавлено спустя 22 дня 21 час 34 минуты 16 секунд:
Еще одним свидетельством мощных радиоактивных процессов, происходящих и поныне в объектах Солнечной системы, являются КОМЕТЫ. Астрономические исследования показывают, что основную массу вещества кометных ядер составляют льды (обычно водяные, а также затвердевшие аммиак, метан, углекислота и другие газы). Сами ядра небольшие (от одного до нескольких км в диаметре), а их массы доходят до сотен и даже до тысяч миллиардов тонн. Когда такая глыба приближается к Солнцу на расстояние 300 млн. км и меньше, ее льды начинают возгоняться и комета из твердого монолита превращается в громадного газопылевого «головастика» с непомерно длинным, светящимся под влиянием солнечных лучей хвостом. Потери вещества при каждом таком проходе вблизи Солнца составляют от десятых долей до нескольких процентов общей массы кометы. Поэтому короткопериодические кометы, возвращающиеся к Солнцу через каждые 20 и менее лет, совершив не более 100-150 таких маршей, в конце концов полностью истощают свои ядра и гибнут. Иногда под действием солнечного излучения кометы просто разваливаются на части.
Но это еще не все беды, которые поджидают короткопериодическую комету. Когда ядро кометы приближается к Солнцу, лед на ее освещенной поверхности тает и перемещается в хвост. В результате действия такой реактивной силы кометы в большинстве своем ускоряются и каждый раз все более удаляются от Солнца. В конце концов некоторые из них, испытав сильное возмущение, переходят с эллиптической орбиты на гиперболическую и навсегда покидают Солнечную систему. Для нас во всем этом важно то, что в обоих случаях комета навсегда перестает быть для земного наблюдателя небесным объектом.
Тем не менее, данные наблюдений уверенно говорят о том, что общее число комет в Солнечной системе со временем не уменьшается. Несмотря на то, что среднее значение орбитального периода долгопериодических комет составляет несколько миллионов лет, астрономы каждый год открывают 3-4 новые кометы. За счет чего же происходит регулярное пополнение кометных рядов? Классическая теория в наибольшей степени соответствующей действительности считает гипотезу голландца Я. Оорта, полагающего, что кометы – это огромный остаток того строительного материала, который пошел на образование Солнца и планет. Справедливости ради надо отметить, что сам Оорт был менее категоричен в своих суждениях и вполне допускал, что планеты порождаются в области планет-гигантов. Похожие мысли высказывал еще в 18 веке Ж. Лагранж, считавший, что кометы могут рождаться в результате выброса вещества при вулканических извержениях на планетах. Такую же позицию настойчиво занимал и советский профессор С. Всесвятский. Ну и, наконец, такой механизм происхождения комет больше всего соответствует радиоактивной гипотезе происхождения всех небесных тел Солнечной системы.
Для обоснования этой позиции прежде всего заметим, что присутствие в кометном веществе замерзших газов, особенно воды, характер структурного размещения в ледяной массе обломков пород и пылевых частиц практически исключают возможность самопроизвольной конденсации комет в газопылевых облаках. В межзвездной космической среде вода практически отсутствует. Водород в условиях низких давлений и температур почти абсолютно инертен. Зато кислород, благодаря своей окислительной активности, практически весь связан другими элементами, особенно углеродом. Для химического взаимодействия водорода с кислородом необходимы температуры в сотни градусов по Цельсию. Аналогичные требования применимы и в отношении целого ряда других химических соединений, входящих в состав кометного вещества.
А вот образование комет в недрах планет-гигантов является вполне реальным. В жидком силикатном ядре Юпитера, например, находится весь набор химических элементов, кроме, пожалуй, гелия и водорода. С учетом огромных давлений они расположились на силикатном ядре этаким жидкометаллическим водородно-гелиевым океаном глубиной 25000 км. Над этим океаном, в свою очередь, простерлась огромная атмосфера примерно такой же глубины, во внешних слоях которой плавают облака из водяного пара, сернокислого аммония и аммиака. Легко теперь представить сдерживаемый до поры до времени миллионоатмосферным давлением мощный выплеск вещества, начинающийся из самых радиоактивных глубин планеты. Пересекая все слои гигантского тела Юпитера, он захватывает по пути и металлы, и силикаты, и газы самых различных форм и сочетаний. Последовательная смена давлений на более низкие приводит к образованию пористости. В результате из планеты выбрасывается этакое рыхлое месиво, а в силикатном веществе после всех этих пертурбаций возникают хондры (они нам еще потребуются при рассмотрении метеоритов).
Для других планет-гигантов процесс выброса комет выглядит еще проще. Если на Юпитере из-за высоких температур ледяная оболочка так и не образовалась, то поверхность Сатурна, и особенно Урана и Нептуна, покрыта толстенными слоями льда. Так что из них кометы могут выбрасываться уже в готовом глыбо-ледяном виде.
Таков вот наиболее физически обоснованный механизм происхождения кометных тел Солнечной системы. По крайней мере, он более реален, чем «лепка» комет (а заодно с ними и астероидов, планет и их спутников) из расслоившихся некогда в кольца газопылевых частичек сжимающегося протосолнечного облака.
Добавлено спустя 27 дней 21 час 51 минуту 12 секунд:
Еще одними «живыми» свидетелями (причем самыми многочисленными) бурных радиоактивных процессов в Солнечной системе являются МЕТЕОРИТЫ. По своему структурному составу, в зависимости от соотношения двух основных фаз содержащегося в них вещества - металлической (железоникелевой) и каменной (силикатной) – они делятся на три обширных класса: железные, железокаменные и каменные.
Поначалу, пока господствовало представление о взорвавшемся Фаэтоне, научный мир полагал, что метеориты – пробы из разных слоев одной и той же планеты. И для этого у него имелись вполне достаточные основания. Структура ряда метеоритов говорит о весьма высоких давлениях, которые им когда-то пришлось испытать. Анализ изотопного состава метеоритного вещества показывает, что составляющие его частицы с момента образования никогда больше не подвергались сильному нагреву, а сравнение изотопного состава метеоритного и земного вещества указывало на определенную тождественность их происхождения. Но после того как от гипотезы Ольберса отказались, в ход пошли уже совсем другие аргументы. Прежде всего было обращено внимание на убогость минералогического состава метеоритов, в которых удалось насчитать всего 150 минералов, тогда как в породах Земли их выявлено более тысячи. Кроме количественных отличий были обнаружены также и качественные. Так, например, в составе метеоритов был обнаружен ряд новых, неизвестных или очень редко встречающихся на Земле минералов, что прямо свидетельствовало о своеобразии условий образования метеоритов, отличающихся от тех, при которых образовались земные породы. Новую трактовку приобрели и причины уплотнения вещества в астероидах: оно происходило, мол, за счет частых столкновений тех первоначально рыхлых агрегатов, которые получались от слипания частиц пыли.
Не очень-то укладывались в рамки гипотезы о Фаэтоне, по мнению ее противников, и возрастные характеристики метеоритов. Возраст большинства из них, определенный по изотопному составу, равен около 4,6 млрд. лет, что прекрасно согласовывается как с возможным взрывом планеты, так и с образованием астероидов по принципу теории Лапласа. Но один из классов метеоритов (хондриты) явно отличался от всех остальных не только своеобразием химического состава, но и возрастными особенностями. Кроме наличия хондр (с этим понятием мы уже встречались в предыдущем сообщении о кометах) – сферических частиц размером от микроскопических зерен до горошины, – от остальных метеоритов хондриты отличаются тем, что все элементы, за исключением самых летучих (гелий, водород, кислород и т.п.), находятся в них в тех же пропорциях, что и на Солнце. Казалось бы, все ясно, сторонники теории Лапласа могут торжествовать. Ведь состав хондритов почти полностью соответствует представлениям о том «первичном стройматериале», из которого в дальнейшем «лепились» все небесные тела Солнечной системы.
Оно бы так тому и быть, если бы не возраст самостоятельного существования хондритов. А он, в отличие от железных и каменных метеоритов, измеряется не миллиардами, а всего лишь десятками и, реже, сотнями миллионов лет. Причем у одного из видов хондритов – гиперстоновых – отмечается преимущественно два возраста – 7 и 20 миллионов лет.
Это еще одно очевидное противоречие с положениями классической теории в очередной раз прекрасно согласуется с радиоактивной гипотезой. Совершенно ясно, что никаких железоникелевых сплавов, характерных для железных метеоритов, в небесных объектах, подобных астероидам, образоваться не может. Без долговременного радиоактивного прогрева, проходящего под высоким давлением внешних слоев, здесь никак не обойтись. Астероиды же слишком малы, чтобы удержать в себе необходимое для плавления металлов тепло, даже если допустить попадание в их состав достаточно большое количество актиноидов. Да и высоких внутренних давлений при таких массах астероиды обеспечить не способны. Примитивность и неразвитость минералогического состава Фаэтона по сравнению с земным тоже не может служить серьезным аргументом в пользу теории Лапласа. Даже ежу понятно, что для эволюции вещества (вообще в природе, в том числе и в планетах) важны не только физические условия, которые на различных планетах естественным образом отличаются друг от друга, но и длительность протекания геологических процессов. Просуществовав всего каких-то пару миллионов лет, Фаэтон просто не успел обзавестись богатым набором минералов. Что же касается качественных и возрастных отличий хондритов от остальных метеоритов, то все становится на свои места, когда мы согласимся со взглядами на образование комет в результате выбросов их из планет-гигантов. Хондриты – это не осколки взрыва Фаэтона, имевшего место 4,6 млрд. лет назад, и, тем более, не продукты длительной самосборки в газопылевых кольцах Лапласа, а рассыпавшиеся на части ядра комет, периодически катапультируемых из недр Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.