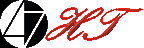Свойство разума, которым наделили его еще древние философы (в основном, с подачи Аристотеля) — оценивать свое собственное знание о мире с позиции двух противоположных индикаторов: истины или лжи. Эти оценки знания затем из формальной логики перекочевали в математику и теоретическое естествознание и застряли в них как гарпуны. Позволю себе утверждать, что такой двойной способностью думать не обладает ни одно животное. Свое знание о среде обитания любое живое существо, которое оно наследует либо генетически, либо приобретает как набор условных рефлексов, всегда оценивает однозначно — как истинное.
Эту точку зрения невозможно обосновать в нескольких словах, но если сказать кратко, то данная позиция основывается на том, что наше недостаточное понимание логических законов мышления препятствует построению концепции объективного знания, если его интерпретировать в терминах логики и естествознания одновременно. При этом подчеркну, что такая или похожая позиция не является сколько-нибудь приемлемой среди логиков и философов, а также математиков и физиков; она встречает, скорее, мощное противодействие, чем понимание и поддержку. В общепринятом понимании познания физической реальности есть провал именно на том уровне, который имеет непосредственное отношение к человеческому мышлению на первом и основном его уровне функционирования — логическом.
ФИЗИЧЕСКИЙ МИР И ЕГО НАБЛЮДАТЕЛЬ
Существуют ли физические объекты независимо от наблюдателя? Подобные вопросы, которые все еще задают себе некоторые философы, с позиции здравого смысла нелепы: разумеется, все то, что мы видим, слышим или осязаем существует. Но понятие «существование» требует пояснения. Главное состоит в том, что без наблюдателя о существовании чего-либо, не зависимого от него, говорить бессмысленно. При этом пока выносится за скобки вопрос о том, насколько можно доверять чувственным восприятиям наблюдателя, которые переживаются его внутренним психическим миром.
Возникают и дополнительные вопросы, касающиеся проблемы существования физического мира. Например, такие. Что служит причиной знания о предметах, которые мы считаем существующими, поскольку, опираясь именно на знание, мы вправе говорить о том, что они есть? Истинно ли наше знание об этих предметах или мы создаем с помощью ощущений и разума лишь приблизительные представления о них? Следует ли полагать в таком случае, что наши знания о мире, наряду с истиной, которую мы традиционно связываем с действительным миром как таковым, содержат в себе и нечто ей противоположное, что принято в терминах классической логики называть ложью? Другими словами, можем ли мы предположить, что наши знания о мире наряду с истиной могут содержать также и ложь?
Разнообразные явления природы человек оценивает не только с позиции очевидности, но и на основании некоторых дополнительных гипотез относительно характера и свойств объектов внешнего мира, а также на основании и каких-то своих личных убеждений идеологического или религиозного плана. Некоторые же представления о физическом мире настолько глубоко внедрены в нашу собственную природу, что мы даже не подозреваем об их существовании в нашем сознании. При этом смыслы понятий принадлежат каждому отдельному индивиду (это его мысли), однако, они должны иметь отношение и к действительности, ибо в противном случае такой индивид выпадает из поля действия социальных отношений.
НОРМАТИВНЫЙ ЯЗЫК НАБЛЮДАТЕЛЯ
Обращу внимание общественности на особый вид субъект–объектного взаимодействия (назовем его когнитивным) сторонами которого являются физический мир (объект) и человек, его исследующий (субъект). Результатом когнитивного взаимодействия выступает знание, но принадлежит оно только субъекту, которое и необходимо отобразить с целью его сохранения и дальнейшего роста. Таким образом, субъективность, как бы неожиданно это ни звучало, — характерная особенность объективного знания. Знание об объективном мире невозможно приобрести способом, игнорирующем когнитивное взаимодействие, и, тем более, немыслимо автономное существование объективного знания как такового в некоем хранилище (например, в мире идей, по Платону или в мире №3, по философу Попперу).
Итак, в основу подхода к решению проблемы существования физического мира и проблемы существования различных видов познаваемой реальности закладываются следующие основные положения. Мир знаний и их смыслов без субъекта не существует, и по отношению к объекту он вторичен, в то время как действительность (физический мир) по отношению к знаниям, принадлежащим субъекту и выражаемым их с помощью естественного языка, первична. Если рассматривать знание как некоторую совокупность психических событий, то мир объекта и мир субъекта выступают в нем как единство объективного и субъективного или в плане детерминистской парадигмы — как последовательность причин и следствий. Существование физического мира — необходимое условие знания, а существование познающего действительность субъекта — достаточное. Но знание требует своего средства отображения и таковым выступает нормированный, т. е. специфически организованный, естественный язык.
Организация языка для отображения знания необходима потому, что в целом роль языка более широкая, чем только отображать и передавать мысли. В разговорном языке в той или иной мере отображаются и результаты работы нервной системы человека в целом, в которое значительное место занимает сфера чувств и животных по своей сути инстинктов. Поэтому в жизни язык служит как для выражения эмоций и инстинктов, так и для выполнения коммуникативной функции. Человек может выразить сложное состояние своей психической системы одним лишь возгласом (например, «вау» или «ёш твою медь»), который сам по себе ни о чем не говорит. Коммуникативная же роль языка, во-первых, для каждого человека является средством выражения мыслей, во-вторых, нормативный язык социален, ибо, если бы это было не так, он не мог бы выступать хранителем всех человеческих знаний, создаваемых не только в данное историческое время, но и тех, которые были созданы различными людьми в далеком прошлом.
СУЖДЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Эмпирическое (или элементарное) знание отображается посредством нормативных повествовательных предложений — суждений. Согласно нормам традиционной логики, «суждение — форма мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений, и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь» [Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 503]. Здесь же приводится пример утвердительного суждения — «Железо есть элемент» и отрицательного — «Змеи не имеют ног», и оба они оцениваются как истинные. На самом деле эти предложения — пустые высказывания, первое из которых можно охарактеризовать как назывное. Типа ленинского перла: «Жучка есть собака», что равносильно: «Эту собаку звать Жучка». Соответственно: «Этот элемент называется железом». Второе, так называемое, суждение также не содержит никакого знания, а лишь порождает вопрос: «Что змеи имеют вместо ног?» Такие речевые штампы, внешне похожие на суждения (они имеют подлежащее и сказуемое), не обладают логическим значением — истина, они не несут никакого знания.
Внесу поправку в описание понятия «суждение», а именно: суждение — это не форма мысли, а форма отображения первичного знания, приобретаемого эмпирическим путем наблюдателем (или ученым экспериментатором) физического мира. Первичное знание необходимо для того, чтобы затем из его массивов создавать теоретическое знание — понятия различной степени общности, а также абстракции и научные гипотезы. Последние, естественно, подлежат экспериментальной проверке. Другими словами и более кратко: суждения — это элементарные единицы знания, которое субъект приобретает посредством наблюдений или измерений, и отображает их с помощью нормативных предложений. Ясно, что такие предложения, во-первых, должны быть утвердительными и, во-вторых, истинными, т. е. отображать только знание и ничего кроме знания, Основанием же для того, чтобы данное суждение наделялось значением «истина», служит логический закон достаточного основания.
Отмечу и позитивную сторону описания понятия «суждение», данного Н. И Кондаковым, а именно: это ссылка на то, что в суждении «утверждается… что-либо относительно предметов и явлений». Значит, в суждении должно отображаться только эмпирическое знание; оно устанавливается реальным наблюдателем путем когнитивного взаимодействия с реальным же физическим миром, в котором эти «предметы и явления» существуют. И наконец: в предметах и явлениях исследуются и утверждаются их свойства (физические, химические, биологические и пр.), а также отношения и связи этих предметов и явлений с другими предметами и явлениями, которые также по определению реально существуют и потому оцениваются с позиции логики как однозначно истинные.
КЛАССИФИКАЦИЯ СУЖДЕНИЙ
Рассмотрим последовательно три типа суждений, которые отображают указанные Н. И. Кондаковым виды элементарного знания.
1) Суждения, которые отображают свойства исследуемого предмета, называются атрибутивными (от лат. atributum — необходимое свойство предмета, без которого он не существует как тождественный себе объект). Этот класс суждений впервые рассмотрел Аристотель, и он же придал им вид формулы S есть Р, где S и Р — переменные, вместо которых можно подставлять имена предметов (вместо S) и их различные свойства (вместо Р), а слово «есть» — постоянная, выступающая в качестве логической связки между субъектом суждения (S) и предикатом (P). Любое атрибутивное суждение, по Аристотелю, могло быть либо истинным, либо ложным, смотря по тому, либо правду говорил изрекающий данное суждение субъект, либо искренне заблуждался или банально врал. Рассматривал Стагирит и отрицательные атрибутивные суждения по формуле S не есть P и так же наделял их потенциальным двойным логическим значением.
2) Суждения, в которых устанавливается какое-либо отношение между предметами, называются релятивными (от лат. relativus — относительный). Нормализуются релятивные суждения в виде формулы aRb, где a и b — предметные переменные, вместо которых подставляются имена реальных предметов; R — переменная, вместо которой подставляется знание об определенном виде отношения. Например, «Москва больше Киева» или «Иван старше Петра». Сразу отметим, что все виды отношений, которые выступают в качестве переменной в релятивных суждениях, всегда можно ценить определенной физической величиной. Так, «Москва больше Киева площадью в N тыс. квадратных километров» или «Иван моложе Петра на пять лет». Измеряемое определенными физическими мерами (единицами измерения — километрами, секундами, килокалориями, вольтами и пр. ) отношения могут быть как величинами постоянными («Расстояние между Москвой и Питером примерно 650 км.»), так и переменными («Расстояние между Москвой и движущимся поездом изменяется со скоростью 120 км/час».), но считать при этом, что в процессе изменения величины отношения изменяются и сами единицы измерения (масштабы физических величин) — безумие разума, достойное глубокого сочувствия. Это означало бы, что физический мир в различных своих проявлениях и процессах руководствуется различными законами, что автоматически снимает аксиому сохранения.
3) Суждения, в которых устанавливается какая-либо связь между предметами будем называть конкретивными (от лат. concretus — твердый, сросшийся) или просто суждениями связи, кому это слово не нравится. Выражать конкретивные суждения можно в виде формулы aKb, где a и b — предметные переменные, вместо которых подставляются имена реальных предметов; К — переменная, вместо которой подставляется знание об определенном виде связи. Например, «Санкт-Петербург расположен в устье Невы» или «Волга впадает в Каспийское море». В каждом из этих суждений утверждается географический факт.
ОТРИЦАНИЕ СУЖДЕНИЙ
Аристотель наделял отрицательные атрибутивные суждения потенциальным двойным логическим значением — либо «истиной», либо «ложью», в чем он, конечно, заблуждался, причем, дважды. Во-первых, отрицательное атрибутивное суждение не является элементарным, оно получается в результате применения логической операции отрицания к исходному утвердительному. Например, «Река Быстрая есть быстрая» и «Река Быстрая не есть быстрая», и второе суждение может появиться после квалифицированного гидрологического исследования реки по имени Быстрая. Этим отрицательным суждением исправляется ошибка, дезавуируется заблуждение, привнесенное первичным утвердительным суждением (по разным причинам). Только после этого может быть восстановлена истина следующим утвердительным суждением: «Река Быстрая есть медленная». Таким образом, отрицательные суждения как лексическая форма существуют, но применяться они могут только в качестве инструмента для устранения из мыслительного поля исчерпавших или дискредитировавших себя (утративших истину) утвердительных суждений. В таких случаях отрицательные суждения выступают как следствия своих причин — утвердительных суждений и тогда, если следовать Аристотелевой установке, можно условно наделять их истинностным значением «ложь», но только в том смысле, что эта «ложь» противоречит «истине».
Любое утвердительное суждение закрепляет (материализует) мысль, следовательно, должен соблюдаться закон непротиворечивости, который в качестве главного закона мышления провозгласил сам же Аристотель и потому мы должны убрать (в буквальном смысле стереть) противоречащую мысль, прежде чем поставим на ее место (в наших мозгах) новую, наделяя ее истинностным значением «истина». И эта новая может в будущем оказаться не соответствующей реальному положению дел, но ничего логически криминального в этом не будет. Эту мысль также можно стереть отрицательным суждением, а на ее место поставить новую и так далее несколько раз. Главное, не упорствовать в своем заблуждении, а настойчиво идти к истине, отказываясь на каждом логическом шаге от заблуждения. Вторая ошибка Аристотеля состояла в следующем: он не видел того, что отрицательное атрибутивное суждение, высказанное вне связи со своей причиной, не содержит никакого знания, оно рождает только вопрос. Например: «Какая на самом деле река Быстрая, если она не есть быстрая?».
Как и в случае атрибутивных суждений, отрицательные релятивные суждения также служат для снятия заблуждения (или вранья), выдаваемого ранее за истину. Например, если в процессе более близкого знакомства с Иваном и Петром выясняется, что Иван просто выглядит старше Петра, потому что ведет нездоровый образ жизни, то, чтобы восстановить истину, надо вначале снять прежнее ошибочное утверждение его отрицанием (мысленно или вслух, безразлично): «Иван не старше Петра», а затем, ознакомившись с анкетными данными этих господ, сказать (про себя или вслух, безразлично): «Иван и Петр ровесники» или «Иван моложе Петра», смотря по тому, что записано в их паспортах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всех известных логиков как архаичного, так и нового времени лично мне известен только один — русский философ и логик М. И. Каринский (1840–1917), который высказывал совершенно правильный взгляд на логическую сущность суждения (проходит через все его книги: Явление и действительность,1878; Классификация выводов, 1880; Логика, 1885). Все знания, утверждал Каринский, имеют своим источником только чувственные восприятия. Субъект суждения, говорил Михаил Иванович, указывает на предмет, который исследуется, а предикат — на то, что наше мышление считает истинным о данном субъекте, и при этом он подчеркивал, что предмет познания — «действительно существующий предмет». Ошибкой позитивистской логики Каринский считал то, что она смотрит на предмет суждения как на явление, возникающее в нашем сознании. На самом же деле этот образ служит для нас только знаком действительного бытия, отличающим от другого знака этого же бытия, и все прообразы этих знаков существуют вне нас, они-то и определяют бытие, или физический мир, как принято бытие называть теперь. Предикат же приписывается не этому знаку, а тому, что под ним подразумевается, т. е. реальному предмету.
Каринский подвергал критике и другой ошибочный взгляд, согласно которому будто бы под представлениями, которые могут быть субъектами суждений, можно разуметь понятия и абстракции (математические понятия). Когда мы, например, говорим: «все люди смертны», — следует иметь в виду не понятие «человек», а реальных людей, образующих объем (экстенсионал) этого понятия. Так, понятие «человек», поясняет далее свою мысль Каринский, вызывает в сознании всю совокупность тех атрибутов (интенсионал), которые отличают людей от остальных животных. Суждение же произносится именно о людях, обладающих этими признаками, но не о признаках, которые индуцируют в наших мозгах понятие «человек».
Философы, которых обычно относят к клану идеалистов — субъективных и объективных, видят в суждении не отображение знания о предметах, а лишь цепочки мыслей, которые могут быть лишь порождениями чистого разума. Так, Кант определял суждение как соединение представлений в сознании, а Гегель рассматривал суждения лишь как отношение между понятиями. Все их некритические эпигоны (и особенно преуспели в этом пороке математики) в связи с этим определяют истинность суждений не отображением знания о свойствах, отношениях и связях исследуемых предметов, а только лишь непротиворечивостью одной мысли относительно другой. Отсюда и проистекает лавное заблуждение всей современной теоретической науки, что истинность суждений и создаваемых на их базе теорий следует искать в самом мышлении и в формализме самих правил вывода, в «ясности и отчетливости суждений» и пр., т. е в самом формализованном языке, на котором эти авторы излагают свои пустые теории.
- Код ссылки на тему, для размещения на персональном сайте | Показать